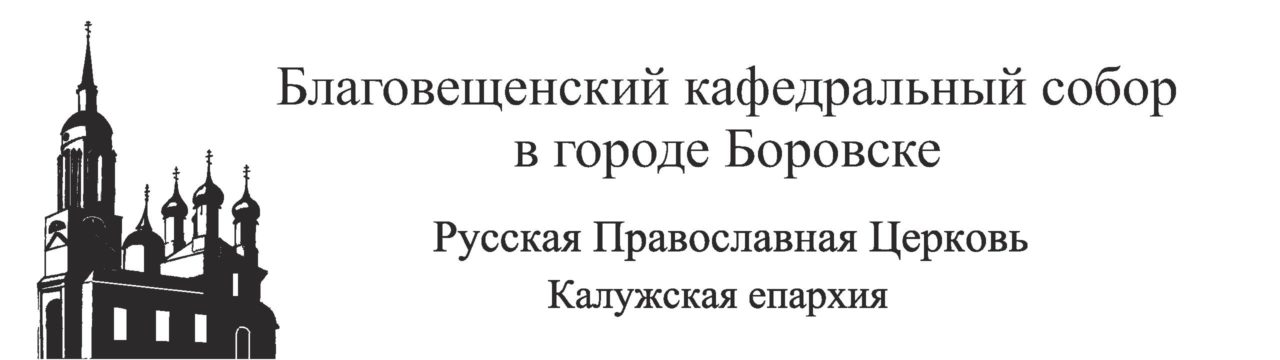Распятие и смерть Господа Церковь вспоминает в Страстную Пятницу.
«Люди всегда распинали людей и (страшно это признавать) продолжают распинать сейчас, но только однажды они распяли Богочеловека.
Он проходит Свой крестный путь вместе с человеком, принимая на Себя все грехи мира. Он принимает также их последствия – отвержение, страдание, осуждение, смерть, оставленность всеми. Господь проходит через все ступени человеческого горя.
Ведь и за Господом ходили толпы людей, ожидая от Него помощи. Но приходит час, когда эти люди начинают один за одним уходить. Остаются ученики, но даже и они в последний час уходят. И только Мать Господа, Мария, вместе с Иоанном стоят у креста.
Для иудеев эта казнь считалась не только самой ужасной, но и самой позорной, потому что «проклят всякий повешенный на дереве» (Втор 21:23), Следовательно, Христос прошел через квинтэссенцию боли и позора одновременно. Христианская Церковь считает мучения, перенесенные Богочеловеком в последние дни Его земной жизни: непревзойденными, беспримерными и неповторимыми. Это объясняют философы и святые отцы тем, что «люди различной моральной высоты страдают различной мерой страданий. Кто страдал больше: Чехов, Блок, Достоевский или целые тысячи сытых упитанных обывателей? Или кто страдал больше: все люди вместе взятые или Тот, Кто принял в душу Свою все страдания мира? У Кого от борения и муки выступил кровавый пот на челе? Можно не верить в Христа как в Бога, но всякий должен признать, что в Гефсиманском саду и на Голгофе открылась такая бездна страданий, которой не было раньше, и которой больше уже никогда не было…». Преподобный Силуан Афонский также говорил, что «чем больше любовь, тем больше страданий в душе». Недосягаемая моральная высота и непостижимая мера божественной любви, присутствующие в Иисусе Христу есть самые настоящие доказательства неповторимости и непревзойденности Его искупительного подвига.
Спаситель чувствовал так же как и мы чувствовал боль, так же как и мы ужасался пространства приближающейся к Нему смерти: «Душа Моя скорбит смертельно…», «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия…» (Мк 14:34)/(Мф 26:39), но при этом Он не только не уклонялся от самого страшного в Своей жизни времени, но утверждал, что именно «на час сей Он и пришел в мир» (Ин 12:27). Именно этим одно трагическое злодеяние — грехопадение человека, упраздняется другим, еще более трагичным – распятием Сына Божьего. Фраза: «для того, чтобы был жив человек, однажды, придется умереть Богу» парализует и одновременно покоряет сознание магией своей величественной невмещаемой глубины. Одно мы можем утверждать со всей определенностью: Господь Иисус Христос не только «грядет на вольную страсть», не только говорит, что нет никаких внешних или внутренних причин, заставляющих Его поступить со Своей жизнью так, а не иначе: «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее». (Ин. 10:18), но и свидетельствует о том, что все это делается Им во имя общечеловеческого спасения (Ин 14:3). Отсюда такое невероятное снисхождение Мучимого и Распинаемого к своим мучителям и распинателям: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:34).
«Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается…» (Мк 14:21). Христовы Страсти спасительны, но не для всех. Висеть на Кресте и прибивать ко Кресту не одно и тоже… Любой православный отпуст в конце богослужения заканчивается одинаковым утверждением: «Христос Истинный Бог наш… помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». Это не просьба – «помилуй» и не надежда – «надеюсь, что спасет», это именно утверждение – «помилует и спасет», потому что Он Благ и Человеколюбив. Это не ошибка. Это чистая правда. Бог спасет все, что может быть спасено, потому что Его природа есть абсолютное Добро, Он просто не может иначе. И поэтому Господь действительно спасет и помилует каждого, если только все люди не станут активно сопротивляться и мешать Ему в этом…
Имена Понтия Пилата, Иуды, Каиафы, образы иудеев, требующих распятия своего Машиаха и римских солдат, совершающих эту отвратительную казнь, уже давно сделались нарицательными. «Не я ли, Господи?!» по-прежнему звучит в нашем мире, по-прежнему вырывается из миллионов человеческих уст, но ответа нет, во всяком случае, такого, который бы сразу записывал отдельного вопрошающего в «сыны погибели». Ответа нет. Бог уже все сказал и все сделал. Больше того, мы уже, в общем-то, и так все о себе знаем через голос нашей христианской совести, и лишь с небольшой отсрочкой ждем, когда это знание окончательно подтвердят божественные глаза Распятого…»